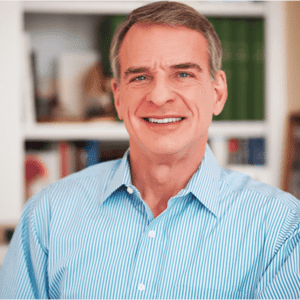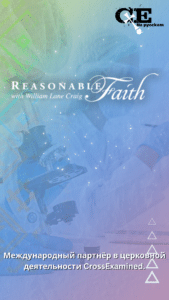#67 ЖИВЕМ ЛИ МЫ В ПОСТМОДЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ?
April 16, 2023
Q
В своей статье для «Christianity Today» вы говорите:
«Тем не менее, некоторые могут подумать, что возрождение естественной теологии в наше время — это просто потерянный труд. Разве мы не живем в постмодернистской культуре, в которой обращение к таким апологетическим аргументам уже неэффективны? Рациональные аргументы в пользу истинности теизма предположительно не работают. Поэтому некоторые христиане советуют нам просто делиться своим нарративом и приглашать людей стать его частью.
Такой тип мышления виновен в катастрофически неправильном диагнозе современной культуры. Представление о том, что мы живем в постмодернистской культуре, — это миф. На самом деле постмодернистская культура невозможна; ведь она совершенно нежизнеспособна. Люди не являются релятивистами, когда дело доходит до науки, инженерии и технологий; нет, они являются релятивистами и плюралистами только в вопросах религии и этики. Но, разумеется, это вовсе не постмодернизм; это модернизм! Это не более чем устаревший верификационизм, согласно которому все, что вы не можете доказать своими пятью чувствами, является делом личного вкуса. Мы живем в культуре, которая остается глубоко модернистской».
Я попросил друга прокомментировать эти слова, и он ответил: «Я полагаю, нам стоит принять, но также и частично отвергнуть гипотезу Крейга. Мы, безусловно, живем в культуре, в которой принят релятивизм, а абсолюты подвергаются серьезному сомнению, но один лишь тот факт, что мы живем в более модернистской, чем в полностью постмодернистской культуре, не означает, что постмодернизм не присутствует в нашей культуре, в том ключе, в котором он сегодня определяется.
Здесь Крейг ясно дает понять, что, хотя люди заявляют о постмодернистском мышлении, мы размышляем в таком ключе только в определенных сферах нашей жизни. Я согласен с Крейгом в том, что, хотя большая часть постмодернистского влияния приходится на более релятивистские (реальные или предполагаемые) области культуры (религию, искусство, музыку, этику, кино и т. д.), мы все же живем в мире, отмеченном тенденцией не видеть в истории большой сюжетной линии (метанарратива), в которой от начала до конца существует логическая и реалистическая связность. Эта идея также подверглась релятивизму, и многие из рациональных аргументов, которые все еще имеют силу, просто отвергаются, поскольку они влекут за собой (и это правда) подлинный метанарратив, который описывает нашу жизнь».
Я полагаю, он правильно понял современную ситуацию. Согласны ли вы с этим?
Джон
Соединенные Штаты
Dr. craig’s response
A
Нет, я не согласен с этим, Джон. Я убежден, что западная культура, как приемное дитя Просвещения, в глубине души остается чрезвычайно модернистской, и поэтому к ней следует относиться как к таковой. Это не значит, разумеется, что в нашей культуре не струятся мощные течения постмодернизма. Постмодернизм укоренился в университетской субкультуре на факультетах литературы, исследований по проблемам женщин и, что немаловажно, религиоведения. Но по отношению к нашей культуре в целом эти радикалы относительно изолированы — более того, даже внутри университета в целом они составляют меньшинство. Я горжусь тем, что моя область философии стойко противостоит натиску постмодернизма.
Большинство людей даже на минуту не верят, что не существует объективных стандартов истины, рациональности и логики. Как я сказал в статье, постмодернистская культура невозможна; ведь она совершенно нежизнеспособна. Никто не является постмодернистом, когда дело доходит до чтения этикеток на флаконе с лекарством или на упаковке крысиного яда. (Если у вас болит голова, то вам лучше поверить, что тексты имеют объективное значение!) Та идея, что мы живем в постмодернистской культуре, боюсь, является не более чем мифом, поддерживаемом в наших церквях запутавшимися молодежными служителями.
Ваш друг, судя по всему, считает, что хотя люди ведут свой образ жизни как модернисты в большинстве сфер, тем не менее мы видим влияние постмодернизма «на более релятивистские (реальные или предполагаемые) области культуры (религию, искусство, музыку, этику, кино и т. д.)». Но я аргументирую, что релятивизм в этих областях культуры является в точности выражением модернизма. В первой половине двадцатого века господствовала философия значения, называемая верификационизмом. С этой точки зрения все, что в принципе не может быть проверено с помощью пяти чувств, то есть с помощью науки, является бессмысленным. А поскольку религиозные и этические утверждения не могут быть проверены таким путем, отсюда следует, что они не имеют никакого фактического содержания. Они являются просто выражением личного вкуса и эмоций.
Влиятельная книга «Язык, истина и логика» британского философа А. Дж. Айера послужила своего рода манифестом этого движения. Айер очень ясно говорил о богословских последствиях своего верификационизма. Если под словом «Бог» вы подразумеваете трансцендентное существо, говорит Айер, тогда слово «Бог» является метафизическим термином, и поэтому «существование Бога не может быть даже вероятным». Он поясняет: «Ибо сказать, что 'Бог существует' – значит, произнести нечто метафизическое, нечто такое, что не может быть ни истинным, ни ложным. И по тому же самому критерию, предложение, которое намеревается описать природу трансцендентного бога, не может обладать никаким буквальным значением».
Надеюсь, вы понимаете значение этой точки зрения. С такой перспективы утверждения о Боге не имеют даже достоинства быть ложными. Это просто бессмысленные слова или звуки, произносимые в воздухе. Если вы скажете кому-то: «Бог любит тебя и у него есть чудесный план для твоей жизни», вы не скажете ничего более значимого, чем если бы вы вскрикнули: «Это было блестяще; а скользкие туи кружились и прыгали в воде».
Айер считал бессмысленными не только богословские утверждения. Этические утверждения — утверждения о правильном и неправильном, добре и зле — также были объявлены бессмысленными. Такие утверждения являются просто эмоциональным выражением чувств потребителя. Айер говорит:
«Если теперь я обобщу свое предыдущее высказывание и скажу: 'Красть деньги неправильно', – я образую предложение, не имеющее фактуального значения… Это как если бы я написал: 'Красть деньги!!'… Ясно, что здесь нет ничего такого, о чем говорилось бы, что оно может быть истинным или ложным». Таким образом он заключает, что в оценочных суждениях «нет никакой объективной обоснованности». То же самое касается эстетических утверждений о красоте и уродстве. По словам Айера, «Такие эстетические слова, как 'прекрасное' и 'безобразное', используются… просто чтобы выразить определенные чувства…».
Как бы вы оценили влияние такой философии на религию, искусство и этику? Это привело к релятивистскому и анархическому хаосу, царящему сегодня в западной культуре. Распятия в моче становятся предметами искусства, а сексуальное распутство вырвалось на свободу. Учитывая, что религиозные утверждения не являются констатацией фактов, для неверующего вполне законно ответить на Евангелие словами: «Это может быть правдой для тебя, но не для меня». Такой ответ посчитался бы безумным по отношению к инженерным технологиям, используемым при конструировании моста или даже фена, но он имеет смысл в отношении выражения личного вкуса. Христиане (или мусульмане), утверждающие, что их религиозные взгляды являются объективной истиной, а те, кто с ними не согласен, ошибаются, воспринимаются как ограниченные и догматичные фанатики, наравне с теми, кто говорит: «Ваниль вкуснее шоколада, и тот, кто думает иначе, ошибается». Будучи субъективным выражением личного вкуса такое суждение не несет в себе объективной истины, и тот, кто так считает, попросту заблуждается.
Итак, мой аргумент состоит в том, что именно модернизм породил релятивизм и плюрализм в тех областях культуры, о которых говорил ваш друг.
Но как насчет его утверждения о том, что «мы все же живем в мире, отмеченном тенденцией не видеть в истории большой сюжетной линии (метанарратива), в которой от начала до конца существует логическая и реалистическая связность»? Является ли это продуктом постмодернизма? Вовсе нет. Это опять-таки прямой плод модернистской точки зрения, рассматривающей человека и вселенную как непреднамеренные побочные продукты слепых сил случая и необходимости. Посмотрите на пронзительные слова Бертрана Рассела, написанные в 1903 году:
«Таков в общих чертах мир, который рисует нам наука, – он даже еще бесцельнее и бессмысленнее. Именно в таком мире, и нигде больше, должны найти себе место наши идеалы. Что человек есть продукт действия причин, не подозревающих о цели, к которой направлены; что его рождение, рост, его надежды и страхи, его любовь и вера суть лишь результат случайного сцепления атомов; что никакой героизм, никакое воодушевление и напряжение мысли и чувств не могут сохранить человеческой жизни за порогом смерти; что вся многовековая работа, все служение, все вдохновение, весь блеск человеческого гения обречены на то, чтобы исчезнуть вместе с гибелью Солнечной системы; что храм человеческих достижений будет погребен под останками Вселенной – все эти вещи, хотя их и можно обсуждать, столь очевидны, что никакая философия, их отвергающая, невозможна. Только в опоре на эти истины, только на твердом фундаменте полного отчаяния можно теперь строить надежное убежище для души» («Поклонение свободного человека»).
Именно научный натурализм разрушил надежду современного человека на смысл и значимость. Отчаяние западной культуры проистекает из научного натурализма, который формирует ее представление о том, каким на самом деле является мир.
Все это крайне важно, потому что правильная реакция на нашу культуру требует точного диагноза этой культуры. По мнению некоторых христиан, поскольку мы живем в постмодернистской культуре, мы должны отказаться от любых попыток рационально представлять нашу веру в качестве истины о реальности. Вместо этого мы просто должны делиться нашим нарративом и приглашать людей стать его частью. Однако, если я прав, это самоубийственный образ действий. Он разрушит всякий смысл церковных притязаний на истину о том, как устроен мир, — все будет отдано в руки научному натурализму, — и христианство станет расцениваться как не более чем простая мифология.
Мой коллега Дж. П. Морлэнд предупреждал об опасности, стоящей перед нами:
[Такая] «церковь… станет… бессильна противостоять могущественным силам секуляризма, которые угрожают похоронить христианские идеи под покровом бездушного плюрализма и ошибочного сциентизма. В таком контексте у церкви возникнет искушение измерять свой успех преимущественно цифрами — цифрами, достигнутыми за счет культурного приспособления к пустому 'я'. Таким образом… церковь станет ее собственным могильщиком; средства ее краткосрочного 'успеха' окажутся именно тем, что в долгосрочной перспективе приведет к ее маргинализации» («Love Your God with All Your Mind», стр. 93–94).
«Это требует понимания и мудрости» (Откр. 17:9, НРП).
– Уильям Лейн Крейг
– William Lane Craig
Хотите прочитать всю статью?
Вы просматриваете сокращённую версию этой статьи.
Вы можете продолжить чтение здесь, на сайте CrossExamined, или перейти на сайт нашего партнёра по служению, чтобы ознакомиться с полной версией.